











«В жизни нет сюжетов, в ней всё смешано:
глубокое с мелким, великое с ничтожным,
трагическое со смешным».
А.П.Чехов
Никто и никогда не будет отрицать то, что у человека наступают такие моменты, когда он ломает свою жизнь. Ломает не потому, что он так хочет, а потому что так необходимо. Он ещё ни о чём не подозревает, и даже не замечает наступающие перемены, а они уже пустили свои ростки и надвигаются медленно, шаг за шагом, зажимая человека в необходимость их решения. Перемены не всегда заметны сразу, и у них, наверное, есть своя точка отсчёта. Может быть, они берут начало от разлетевшихся из дома детей, ушедших во взрослую жизнь. Привычный домашний уклад сменяется пустотой дома, в которой не звенят больше ребячьи голоса, а так необходимое ожидание детей из школы, с улицы, с рыбалки, да и ещё чёрт знает откуда, становится напрасным. Тишина... И только мелкие перебранки друг с другом, становятся привычными и иногда полезными: чем-то же надо занимать эту наступившую тишину. И тогда мы с задумчивым спокойствием начинаем понимать, что неизбежно стареем.
А может быть, точка отсчёта начинается с той минуты, когда ты бросаешь горсть земли вслед покинувшему тебя человеку, с которым вы прожили долгие и суетные годы. В радости и, что греха таить, ссоре, вы вместе несли приятные и горькие моменты вашей совместной жизни. Может, с этой минуты и начинается тоскливое одиночество. Может, отсюда начинаются те перемены, которые разделяют человека на две половинки. Приходит твоя личная осень, года срываются, как листья с деревьев, быстро и один за другим. И трагедия наступающей старости не в том, что она подбирается как сгущающиеся сумерки, а в том, что, считая годы, ты наивно думаешь: «Да мне же всего 65... 70... 80». И страшнее всего, что никто не догадывается, какие мысли при этом крутятся в голове, что человеку видно за этими датами. А там - ожидание заката.
Ты прав: мы старимся. Зима недалека,
Нам кто-то праздновать мешает,
И кудри тёмные незримая рука -
И серебрит, и обрывает.
Афанасий Фет 1860г.
Таисья... Тася. Сейчас, наверное, таким именем не называют родители своих дочерей. Старое оно, даже старинное. После смерти мужа прошло больше двадцати лет, а она всё потихоньку телепалась в своём добротном доме на три комнаты с кухней, с большой верандой и высоким крыльцом. Наверное, тогда, осознавая себя вдовой, она сидела долгими вечерами перед телевизором, в одиночестве пила остывший чай, а на её лицо год от года наползали глубокие морщины. Нет, летом к ней обязательно приезжали по очереди, а то и всей кучей, дети и внуки, и тогда все диваны, кровати и даже пол, со скинутыми на него матрасами, принимали на ночлег всю эту многочисленную братию. И всем, почему-то, хватало места. Из каждого угла неслось посапывание, похрапывание, и даже детский плач, и это никогда и никому не мешало. Ну и, конечно же, обычные в такой кутерьме бабки Тасины щи или окрошка, пироги с картошкой и капустой, с луком и яйцом, и даже с натёртой на тёрке варёной морковкой.
Вскоре наступала зима, долгие дни и ночи тянулись чередой, отсчитывая очередные бабкины годы. Дети навещали её пару раз за зиму, чем она была, по её словам, «довольнёхонька». Провожая их в воскресенье, Таисья непременно выходила за ворота и ждала, пока машины не скроются за поворотом, потом семенила на огород и смотрела, как дети переедут по засыпанной дамбе реку и скроются окончательно из вида. И, скорее всего, в это время она вытирала ладошками выступившие на глаза слёзы. Ехать в город, к зовущим её к себе детям, она категорически отказывалась.
Со временем дом и подворье приходили в упадок: покосился подпёртый на одну сторону просторный бревенчатый сарай, в котором мычало, хрюкало и кудахтало когда-то их личное хозяйство; заваливался на бок и сверкал дырками рассохшийся от старости гараж, в котором в старинных деревянных чемоданах хранилось дедово добро с ключами и гайками, болтами и напильниками, и прочей разной мелочью. Нужное барахло давн разобралось детьми по домам, а оставшееся постепенно ржавело и валялось за ненадобностью. В просторных сенях покорёжило половицы, крыльцо тоже съехало на бок от старости, словно и его разбил неизбежный старческий паралич. Одна только банька хранила своё, пока ещё скромное приличие. Однажды летом, сыновья перекрыли старыми досками её крышу, и банька пообещала им, что обязательно потерпит и погреет ещё бабкины озябшие косточки. Покосившиеся заборы каждый год подпирались новыми кольями и прибивались заново: сыновья, по приезду весной к матери, старались привести её хозяйство в благообразный вид. Строить здесь всё заново не было никакого смысла: всем было понятно, что мать доживает до той точки, когда встанет острая необходимость определяться к детям.
К слову сказать, бабку Тасю лет пять-шесть подряд дети увозили на зиму в город, где она жила у всех понемногу до весны. Приехав осенью по первому снегу, как просила бабка Тася, сыновья заколачивали окна досками, сливали воду из труб отопления, закрывали на замки сарай, гараж и баньку, загружали необходимые ей вещи и увозили. Заезжая по пути на кладбище, бабка прощалась там с мужем и своими родителями и приговаривала:
- Жива-здорова буду, то весной свидимся. А если нет, то дети привезут сюда лытками вперёд. Оставайтесь.
И уезжала.
Весной, когда дороги в деревне, по мнению бабки, уже просохли, поступал категорический приказ - «до дому», и они везли её на лето в деревню. Три-четыре часа до деревни были для бабки Таисьи уже утомительными. Кто знает, сколько дум у неё пролетало в голове, когда она вновь возвращалась к родному порогу. Кто знает, о чём она думала, собираясь из дома в город на зиму. Уезжала она с обязательными сумками и мешками с одеждой, строго со своей подушкой и одеялом, и с так необходимым ей маленьким свёртком со своим смертным.
Однажды, по приезду весной из города, открыв замок старым ключом, они с недоумением застыли на пороге: зал и спальня на второй половине дома стояли с обвалившейся с потолка штукатуркой. Несколько неотапливаемых зим, отсыревшие стены и потолок, и холодная безысходность застывшего брошенного жилья. Закрыв губы рукой, бабка Таисья в замешательстве присела на край дивана и сама у себя спросила:
- Ой. Что же это сделалось-то? И что же я с этим делать-то буду? Господи-и. Измучила я вас. Вам самим уже по пятьдесят да по шестьдесят с лишним лет, - и всхлипнув, с горечью добавила: - Где же это смертушка-то моя потерялась? Почему за мной не идёт?
Младшенький сын тогда посмотрел на мать и крепко возразил:
- Сиди и не буровь. Бабка Аксинья, мать твоя, до девяноста двух лет дожила. А тебе всего восемьдесят семь. Догоняй, давай, маманю свою.
А вскоре, бабка Таисья засобиралась в город. Совсем засобиралась. Первые звоночки для этого решения прогудели пару лет назад. Прожившая всю жизнь в этой деревне, бабка Таисья знала каждую тропку в местном бору, знала места обильных брусничных полян, знала места, где точно можно было набрать опят и белых грибов, знала места дикой лесной малины. В то лето, она по привычке потёпала, как она всегда говорила, одна в лес по малину. Небольшого росточка, слегка полноватая, она каталась по зарослям малины, как колобок, пока ей не обнесло голову жарой. Закружившись в малиновых зарослях, бабка Таисья добрала трёхлитровое ведёрко ягод, вышла из кустов и заблудилась. Постояв в раздумье, она пошла прямо, надеясь по заброшенной травяной дорожке выйти в село. Плутала тогда бабка долго, около трёх часов, пока не попала на просеку, по которой вышла на дорожную трассу километрах в пяти от деревни. Шла она тогда вдоль этой трассы и плакала. Плакала от усталости, и от того, что ноженьки её уже не ходят, а боль в коленях становится всё шипче. А ещё она плакала о том, что умудрилась всё-таки выйти из бора и скоро будет дома.
- А то вон, Кондратьева Стюра пошла года три назад вот так же в лес, так по сих пор её ищут. Пропала, где-то в бору, - приговаривала сама себе бабка Таисья, заворачивая на затянутую травой дорогу на краю деревни.
Шла она мимо остатков брошенных домов в полном недоумении: как она могла так заблудиться в бору, а слёзы всё катились и катились потихоньку.
Уставшая, она кое-как заползла непослушными ногами в дом, свалилась на диван и стала звонить младшему, плача и рассказывая о своём горе. Сынок поругался на неё и приказал, чтобы больше в лес не ходила. А если не будет слушаться, то он приедет и, несмотря на протесты, увезёт мать к себе. Дня два после того, она лежала «в лёжку» на диване, вставая только по нужде и перекусить. Отходила...
Ещё раз она придумала сбегать в лес осенью, когда пошли обильные опята.
- А как же? Все возют опяты возами, а я буду лежать на диване. Сбегаю, хоть ребятишкам наберу, да закатаю всем по паре баночек, - ворчала бабка Таисья, подходя к бору. - Далеко не пойду. Схожу до ближнего березничка к болоту, а дале не пойду.
В тот раз она блукала по бору не так долго, часа два. Устав от ползания по заросшему густой травой березнику, бабка вылезла под сосны, села на попавшийся широкий пень и, перекусывая булочкой и помидором, взятыми на всякий случай, терпеливо соображала, как ей теперь выйти на деревню. Пошла, и опять попала не на ту дорогу: она попала на другую, которая вела на край села. Сделав довольно большой крюк, она вышла на ту травяную дорогу, по которой возвращалась прошлый раз. Ругнувшись, она обозвала себя старой тетерей и поплелась домой. Про это похождение бабка решила не жаловаться детям, это она им расскажет потом.
А этой весной Таисья ехала в деревню со смутным сомнением: ножки в коленях совсем отказывались ходить. Несмотря на уговоры детей о продаже дома, она решила попробовать пожить лето одна, а дальше - как Бог даст. В мае, как всегда посадила огород со всякой мелочью, и три ведра картошки: картошку младшенькому сыну, пусть потом выкопает и увезёт на зиму в город. А то, что же она, будет жить у него и есть его купленную картошку? Нет, она со своей приедет. И пусть сынок не ругается, что посадила, ведь двигается же она ещё помаленьку, не будет же земля простым бурьяном стоять. И помидорчиков приедет, возьмёт, и огурчиков, чеснока с луком, да морковки со свеклой. У остальных есть дачи, а младшенькому - всё не покупать. Привыкла Таисья так жить, разделив себя на две половинки. Всю жизнь её натруженные руки делали нужное для детей, всё им отдать была рада.
Вот так и шаркала она в растоптанных меховых тапках по дому, не отрывая пятки от пола. Шаркала и приговаривала:
- Ноженьки не ходют, ежжу имя по дому, как на лыжах.
А однажды её ноженьки не перебросились через высокий порог. Запнувшись за постеленную перед порогом самодельную половицу, Таисья во весь мах вывалилась на веранду, выронив тазик с начищенной картошкой из рук. Кое-как поднявшись, бабка опёрлась об ручку дивана, тихонько примостилась на краешек, глядя на рассыпавшуюся по полу картошку, и вдруг рассмеялась. Вот тогда к ней впервые и пришла мысль о продаже дома.
- Убьюся, помру, и пока это меня хватятся. Надо хоть соседу наказать, - бабка вылезла на крыльцо и крикнула в соседскую ограду, сосед за забором колол дрова: - Генка, ты хоть проведай меня, если долго не вылезу. А то вон, не перелезла через порог и выпала совсем в веранду. Чё попало!
- Покараулю, баб Тась, - засмеялся сосед и кивнул бабке.
Хорошие у неё были соседи, добрые. И помогали ей всегда.
Окончательный приговор бабка сделала себе в середине этого же лета. Зачерпнув воды в колодце, она налила ведёрко до половины, неторопливо принесла его к крыльцу и полезла. Забравшись по четырём ступенькам вверх, бабка разогнулась на крыльце, пошатнулась, и вместе с ведром полетела вниз. Очнулась она уже на земле. Лежала Таисья головой в траве, бочиной на железной скребёлке, которая была вкопана у края крыльца: они всю жизнь чистили обувь от грязи об эту скребёлку. Мокрая от пролитой на себя холодной воды, с ноющей болью под рёбрами, бабка сидела на земле, уставившись на треснувшее пластмассовое ведро. Потрогав стекающую с предплечья кровь из небольшой царапины, Таисья спокойно сказала себе:
- Всё.
К вечеру, с замазанными тройным одеколоном синяками - первая бабкина помощь при всех болячках, отлежавшаяся Таисья позвонила дочке. Рассказывая про свою беду, Таисья неторопливо перечисляла ей, где и что ушибла: щека синяя, на руке и ноге большие синяки, да ещё на бочине синяк и нехорошая ломота. Та всполошилась и перезвонила братьям. Переговорив между собой, все единодушно решили, что дом надо продавать. Благо, что покупатели давно уже караулили просторные бабкины хоромы. И бабка Таисья, скрепя сердце и через душевные муки, начала продавать нажитое за долгую жизнь имущество.
Прежде всего, Таисья выяснила, что её видавшее виды добро, сделанное ещё в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века в бывшей когда-то в деревне мебельной артели, никому из детей и внуков сроду не нужно. А как же так? У неё ведь и зерькало есть хорошее, и тумбочки с облупленными краями могли бы ещё у кого-то постоять. А одеялы ватные, вон какие тёплые, под которыми невозможно было уснуть, потому что они своей тяжестью намертво припечатывали спящего к кровати. А верблюжьи одеялы, которые за больше чем полувековое использование скатались так, что были похожи были не на одеялы, а на натуральные попоны. А подушки перьевые, большие и тяжёлые, со сбившимся от времени пером: к утру шея от них становилась скрюченной, словно парализованной, пока это расходишься и разомнёшься от них. А незамысловатые картины, засиженные мухами и временем. А скрипящие кособокие стулья, обитые старым чёрным плюшем, купленным ещё по молодости в местном сельпо в рулонах. А вышитые или выбитые на старенькой швейной машинке оконные задергушки. А жёлтые от времени наволочки, бывшие в своё время белыми, которые надевались сверху на подушки с непременной красной тряпочкой под выбивку. А ещё ажурная полоска белой ткани с выбитыми же узорами, которая стелилась на край кровати под покрывало. А обшарпанные шкафы и старинные буфеты. А круглый столик на массивной ноге, выточенной на станке разными загибами на три стороны. И ещё куча разной старой мелкой утвари...
Теперь, за ненадобностью, бабка продавала всё нажитое за сто-двести рублей за штуку: пусть людям ещё послужит. Это, чтобы не маяться потом, когда дети свалят всё её добро в кучу и сожгут во дворе. Им не надо, а для неё мука.
- Вам меня не понять, - шептала при раздаче добра Таисья, и благо, что в своём городе дети её не слышали.
Да, они не поймут её. Они не поймут, как ноет внутри сердце по родному, построенному своими руками дому, по насиженному за годы жизни месту. Продавала, раздавала, дарила, оставляя для себя одеяло с подушкой и постельное бельё, одежду и обувь, да маленький узелок со своим смертным. И вскоре, в назначенный бабкой Таисьей день, приехали дети, чтобы забрать бабку в город навсегда.
Приехали рано утром, оставив машины за оградой: в проданный дом им уже незачем было заезжать. Дом встретил детей тишиной и пустотой. Шаги гулко раздавались по комнатам, пугая обнажённые стены, стоявшие в пятнах тяжёлой, набеленной за долгое время извёстки. Бабка Таисья сидела на перевёрнутом ящике в зале и завтракала манной кашей, спешно сваренной в старой кастрюльке. Кастрюлька без крышки, старенькая эмалированная чашка с почти стёршимся цветком на боку, да захудалая алюминиевая ложка: вот и всё, что осталось для бабки в этом доме. Нет, ещё сумки и мешки с самым необходимым, сиротливо стоявшие у порога. Всё. Продано. Погрузились, и пока.
Завернув по дороге на кладбище, Таисья, при прощании, честно отплакала тяжкое своё горе на могиле у деда, у мужа своего. Плакала с непременными причитаниями о том, что бросила дом, бросила его, и вдогон попросила, чтобы не держал обиды. А ещё попросила ждать её, потому что она, когда «вытянет лытки», обязательно приедет к нему: хоронила же его так, чтобы заранее оставить место для себя. Обещала бабка деду своему, что дети у них хорошие, что они всё равно её сюда привезут. Вытерев раскрасневшееся лицо клетчатым носовым платком, Таисья велела детям перевезти её к похороненным на другом краю кладбища тятеньке и маме. Переехали... Поплакав там над родителями, Таисья погоревала перед фотографиями про то, что теперь они останутся сиротинушками, что ни одна ноженька не зайдёт к ним в оградку, ни одна рученька не вырвет траву и не почистит могилки, что зарастут они бурьяном и никому не будут нужными. Младший сын на такие материны слова поднял глаза вверх, покачал головой, но мать свою не остановил. Пусть выплачется. Подошла её осень, в которой стало неизбежным прощание со всем, что держало их в родном доме.
А бабка Таисья прощалась. Знала она, что не вернётся больше сюда живой. И разве поймут её дети? Разве поймут они, откуда и за что появились на её лице никем несчитанные морщины? Не из-за них ли, детей, они годами въедались в её тело? Разве старость надела их на лицо? Разве она скрючила её руки, бывшие, поначалу, красивыми и молодыми? Нет. Это ничем неизмеримая материнская любовь и тоска по детям сжимала её до хруста. Её дети, которым она в своих причитаниях давала надежду ощутить своё сердце. Оно ещё тёплое. И в этом - вся она. А жизнь не оставляет ей выбора.
Легко ли ей было рушить свой улаженный домашний уют? Легко ли ей будет доживать оставшиеся годы? Вопросов много - ответы знает только она. И она никому не расскажет о том, что творится в её душе. Да, здесь ей хорошо, тепло и уютно в квартире, не надо носить так надоевшие дрова, чтобы истопить печь. А ведь и с печкой, когда-то было всем уютно. Бабка Таисья помнит, как приезжая зимой проведать её, дочь всегда садилась к протопленной печи, к нагретым кирпичам спиной и томила свой ноющий хондроз, ворочаясь на стуле от жара. Теперь не надо носить в дом студёную колодезную воду: в воспоминаниях останется только скрип колодезного журавля, когда опускаешь или достаёшь ведро из колодца. И ещё звук падающей вниз воды, когда она плещется на холодное кольцо застывшего ещё с зимы льда при подъёме ведра. Не надо топить баньку, чтобы прогреть свои старые косточки, потому что у дочери, где Таисья теперь живёт, просторная для её маленького тела ванна: купайся хоть каждый день. А как же потрескивающие в банной печи берёзовые дрова? Как тот ароматный берёзовый запах распаренного веника? Любили сыновья похлестать себя веником на широком и просторном полке, когда приезжали к ней в гости. Эх... Если бы не ноженьки. Не хотят они её слушаться.
Некоторое время она спускалась ещё с третьего этажа вниз, чтобы прогуляться по прохладным аллейкам под клёнами. Те прогулки её, заплутали давно в остатках уходящего лета и в жёлтой листве осени: к зиме Таисье стало трудно спускаться и подниматься по лестницам. Оставалось единственное место для её гуляний - балкон. Повязав на голову тёплую шаль, Таисья наряжалась в свою старую шубейку, надевала на ноги валенки, и шла гулять на тот балкон.
Нам не дано предугадать, что будет дальше. Возможно, что в голове у неё проносятся сейчас важные отрезки времени: что-то она ещё помнит, что-то давно забыла. Она стала жить в тихой и только ей понятной задумчивости. А время неумолимо. Это нам оно может щедро подарить ещё положенный отрезок существования. Может - даст, может - нет. Всё в этом мире относительно. А уж ей-то, оно точно и невыносимо быстро сокращает сроки её земного бытия. Сколько, ещё? Два года, четыре месяца, три недели... Жизнь её зависит теперь не только от суток, и даже не от часов с минутами. Возможно, что она зависит от дня и ночи: проснулась, и - «Слава тебе, Господи». Возможно, её жизнь зависит теперь от секунд: прожила шестьдесят секунд, и они сложились в минуту. Тик-так. Послушайте... Это идёт её время.
Переведите старушку через дорогу: возможно, что она пошла за последним в её жизни батоном хлеба. Терпеливо ждите, когда она вынет из карманов своей шубёнки потрёпанный кошелёчек, и неторопливо станет отсчитывать положенные за этот батон рубли. Возможно, она достанет свёрнутый туго-натуго носовой платочек, и, разворачивая его, дрожащими и непослушными пальцами будет доставать эти свои смятые рубли. А вы потерпите. Подождите... Возможно, где-то так же стоит и ваша мать. И пусть она вернётся домой.
И ещё... Проезжая мимо многоэтажек, вы можете нечаянно заметить одиноко стоящий в окне силуэт. Возможно, это будет она. И она - гуляет. Одна... И до конца своих дней, ей придётся теперь смотреть на этот мир из окна застеклённого балкона. Сколько она ещё будет стоять? Неделю? Три дня? Сутки? А может быть, последние минуты или секунды... Тик-так. Её время заканчивается. А за ней идёт следующее поколение, одиноко стоящее в оконном проёме.
Я протру стекло и раму
Потому что в раме - мама.
Дочиста протру я раму:
Очень уж люблю я маму!
Г. Виеру
© Copyright: Наталья Шатрова, 2017
Свидетельство о публикации №217013101774





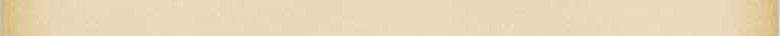

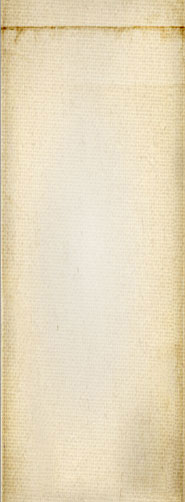

Новые комментарии